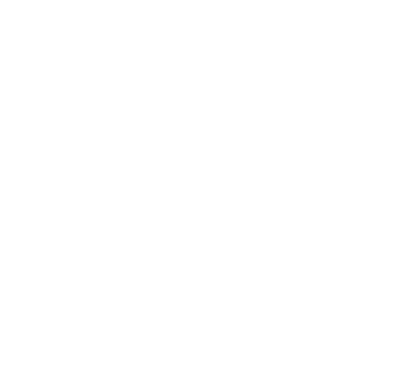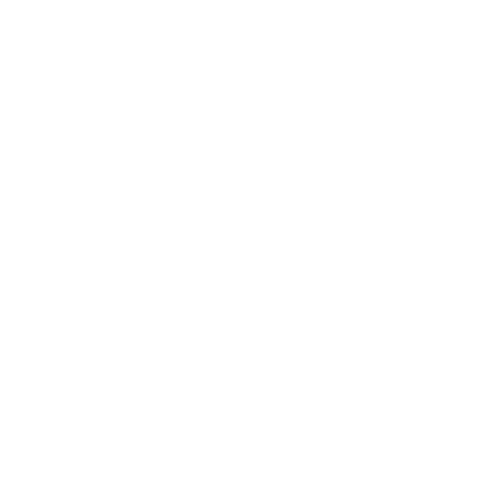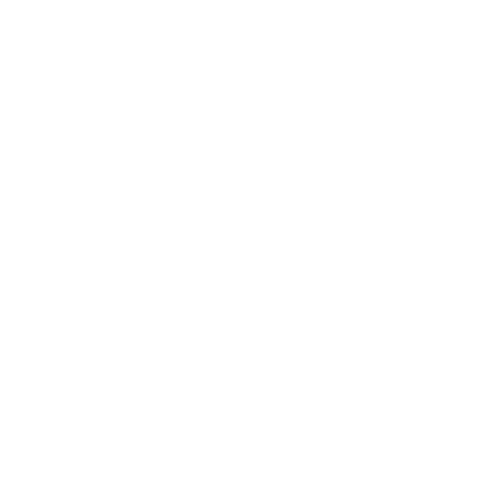© Олег Бородин
Евгений Варшавер занимается интеграцией мигрантов в Москве, исследует Северный Кавказ и рассказывает о границе между теорией и эмпирикой, радикальном исламе, автостопе и полевых исследованиях в Дагестане.
Где учился: Международный Университет Бизнеса и Управления (2007), Московская Высшая Школа Экономических и Социальных Наук (МВШСЭН) (Manchester University) (2008), Interdisciplinary Center Herzliya (Израиль) (2010), аспирантура НИУ-ВШЭ (2011-2015)
Что исследует: этнические границы, интеграция мигрантов, детерминанты человеческого поведения и неожиданные последствия социальных действий.
Я занимаюсь «средой» и «контекстом», и если понимать социологию как науку о контексте, который детерминирует человеческое поведение, то я безусловно социолог. Но не знаю, не обидятся ли представители других дисциплин, если я буду называть наукой о среде только социологию.
Когда мне надо объяснить, что такое социология и как устроена работа социолога, я хватаюсь за нож. Достаю его и говорю, вот лезвие: одна его сторона — это наши концепции о социальном мире, другая — сложный, не познаваемый до конца мир человеческих отношений и человеческого поведения. Социолог скользит по этому лезвию. Социолог «пограничник», его позиция — между, в том числе и между миром описанным и миром еще не описанным. В пределе мир не описывается никогда, поэтому через любые даже самые отточенные концепции все время прорывается реальный мир, и ты занят сизифовым трудом — созданием всякий момент до конца не удовлетворяющего тебя рассказа о мире. Исследование — в том числе, социологическое — как ремонт: его можно прервать, но нельзя закончить.
Но социолог пограничник не только в этом смысле. Его задача — видеть, где проходит социальная граница, и пытаться работать с ней. Я считаю, что функция социолога состоит в активном, иногда активистском, соединении жизненных миров разных людей и групп.
В обществе, где плохо работают общественные институты, где люди не умеют разговаривать и выслушивать друг друга, задача социолога — и в том, чтобы создавать описания жизненного мира человека или группы для других групп и людей, даже не обязательно предлагая какое-то «лечение». Квалифицированного, честного рассказа об этих мирах там, где о них иначе не узнают — уже большое дело.
«Почему мне так нравится работать в Дагестане? Потому что для меня это такой макет общества».
Так в книге Элис Гофман, дочери или внучки Ирвинга Гофмана, классика социологии середины XX века, описывается 6-я улица города Филадельфии, где, в основном, живут афроамериканцы. Она проводит там несколько лет, а потом пишет книгу, которая гремит на всю Америку. Почему гремит?
Потому что, с одной стороны, есть законодатели, которые пытаются искоренить преступность в черных кварталах, с другой — сами эти кварталы, которые живут своей, для законодателей непонятной жизнью, в результате чего политика приводит к обратному эффекту, в частности, к формированию «культуры бегов». У большинства представителей молодого мужского населения района есть целый ряд причин не встречаться с полицией. Их темы для бесед между собой — это суды, УДО, судьбы арестованных друзей и способы избежать встречи с полицией и государством. К 30 годам 60% мужского населения имеет опыт тюрьмы. В результате, даже десятилетние дети, не потому, что на них заведено какое-то дело, а потому что так делают любимые старшие братья, также бегут, завидев полицию. А старшие братья убегают от своих девушек теми же ходами и маршрутами, что и от полиции, просто потому что их жизнь — бега. Они бегут от полиции, полиция их преследует, а легче всего делать это в общественных пространствах. Поэтому таких пространств они избегают. И общество от этого постепенно ломается и разваливается.

© Олег Бородин
Для мейнстрима эта информация стала просто бомбой — до этого казалось, что просто есть афроамериканцы, которые постоянно совершают преступления, нужно обучать полицию zero tolerance, и тогда все устроится наилучшим образом. Надо только подождать. Эта книга — шедевр социологической работы. Моя попытка работать в похожем режиме — это исследование села Тарки в Махачкале. Я пытался объяснить один конфликт, связанный с очень лакомым участком земли в 200 гектаров, на который претендовали таркинцы.
Таркинцы депривированы, у них нет лифтов вертикальной социальной мобильности. Молодежь не поступает в вузы, а если и поступает, то университет не становится для них местом социализации — они просто покупают там диплом. И кажется, что ты сидишь на горе Тарки, а жизнь проходит мимо тебя, и как впрыгнуть в этот поезд, как заработать денег, как преуспеть, совершенно непонятно.
Модели экономического успеха в Тарках — это либо криминал, либо мелкие нерегулярные бизнесы, работа на родственников, временная работа. Самый популярный случай — это малярная работа в маленьких бригадах. А если у тебя появляется собственная автомастерская, считай, ты преуспел.
Одновременно с этим таркинцы помнят о том, как их выселяли во время войны, они уверены, что это спланированная политика «других национальностей». А поскольку они живут замкнуто, то эта травма воспроизводится из поколения в поколение и становится ключом к пониманию мира, своей роли в нем и того, что нужно делать в этой связи. А нужно, конечно же, возвращать землю, которую у них, по их мнению, отняли, себе. Они и возвращают.
Я хотел сделать такое описание, которое показывает, что по-иному, в рамках тех структур, в которых находится это сообщество, быть не могло. И любая политика в отношении этого сообщества или этого конфликта должна это учитывать.
Почему мне так нравится работать в Дагестане? Потому что для меня это такой макет общества. Моя позиция исследователя позволяет мне общаться со всеми и понимать, как функционирует общество, как там возникают конфликты, как формируются институты. Работая в качестве полевого исследователя в Дагестане, я начинаю понимать, как в принципе работает общество.
Когда я учился в школе, в какой-то момент я попал на летние школы по академической иудаике. Меня тогда совершенно восхитило, как и о чем говорит «олда» этих школ — на лекциях и на посиделках после. Мне стало понятно, что нужно двигаться куда-то туда. При этом мне было ясно, что евреями я заниматься не хочу, та наука, которой я хотел заниматься должна была быть более универсальной. Так и возникла идея заняться социологией. И всю старшую школу я пробовал делать какие-то исследования — заставлял друзей рисовать ментальные карты Москвы, опубликовал смешную статью под названием «Социализация подростка», а также показывал, что утопии и антиутопии в части социальной структуры описывают одни и те же государства.
Я хотел поступить в какое-то хорошее московское место, но где оно, не знал, пытался поступить на социологический факультет МГУ, который вообще-то плохое место. Долго готовился и не поступил. Приемная комиссия отрикошетила меня на «почти соцфак МГУ» — в Международную Академию Бизнеса и Управления, ректором которой является декан социологического факультета. По словам приемной комиссии, там якобы работают преподаватели соцфака, а лекции проходят в факультетских аудиториях, и разницы, вроде как, нет. Я отдал документы.
«Честно говоря, курсе на втором я был уверен, что моя задача — со временем разрешить арабо-израильский конфликт. Я интересовался исламом, терроризмом, арабским языком».
Мне очень хотелось учиться, но там все было печально, и четыре года я бился практически один. Мне не объясняли, что нужно читать, а что не нужно. Я ходил в Ленинку и читал каких-то сумасшедших эволюционистов только потому, что они были упомянуты в учебнике по истории социологии.
Я пытался читать Дюркгейма, но мне не хватало ни категориального аппарата, ни жизненного опыта, чтобы хоть как-то подцепить то, что он имеет в виду. В результате, я разрабатывал потрясающие по своей недочитанности и неподключенности к важным источникам знания интерпретации.
Одновременно уже было понятно, что свою позицию надо искать на социальном пограничье — там, где люди не понимают друг друга и дерутся. Честно говоря, курсе на втором я был уверен, что моя задача — со временем разрешить арабо-израильский конфликт. Я интересовался исламом, терроризмом, арабским языком — в общем, всем тем, что дискурс нерефлексивно связывает между собой. Моя бакалаврская работа была посвящена исламской экзегезе и тому, каким образом ислам с помощью институтов, производящих текст, придающих тексту смысл, интерпретирующих тексты, способен мобилизовывать людей.

© Олег Бородин
Сейчас, использовав социологию знания, я уже могу посмотреть на ислам как на систему знаний и практик, которая, во-первых, дисциплинирует, а во-вторых, задает определенный способ коммуникации с разными категориями людей, в результате чего одни смыслы «выплевываются», а другие сохраняются как сакральные. Пять раз в день ты делаешь намаз, интериоризируя то, что велено, одновременно общаешься с друзьями, потому что есть директива общаться, и в результате ты сам того не понимая становишься заложником вложенных в тебя смыслов, которые таким вот образом отлично защищены. Мои махачкалинские информанты между собой постоянно разговаривают про нормы, и про то, как надо действовать с точки зрения ислама. В качестве подтверждения используются как аяты Корана, так и суждения местных уважаемых людей. И все это вместе — смыслы и система их поддержания и обороны — интересует меня в первую очередь.
У меня есть очень важный собеседник в Махачкале, который не верит в Дарвина и уверен, что человека создал бог. Мы очень много с ними разговариваем, я привожу ему «Происхождение видов», но он не читает. Скорее всего потому, что личная космология, концепция мира, должна быть по возможности консистентной, и, если это не так, ты становишься менее устойчив и не можешь действовать в мире.
Если ты долго находишься «в поле», ты не можешь не вступать в близкие отношения со своими информантами. Входить в близкие отношения — это выслушивать, рассказывать, как ты видишь мир, говорить: «Э, брат, все не так!» и много спорить.
«Мне кажется, что основная характеристика идеологии — это ее отчужденность от человека. Человеческое всегда будет выпирать из мусульманина, либерала или националиста».
У меня есть информанты, с которыми я давно общаюсь, которые мне личностно очень важны, и у которых есть политическая повестка дня, за которую они огребают от российского правительства. И для меня это дилемма, в какой степени я остаюсь на позиции исследователя и не вмешиваюсь, а в какой вписываюсь. Это непростой выбор.
Когда была история с Шарли Эбдо, было жарко. Дело в том, что оскорбление пророка для мусульман — это правда очень плохо — это сопоставимо с убийством. Моя задача как «пограничника» состояла в том, чтобы объяснить людям здесь, что это за ценность, что это значит для тех, кто исповедует ислам, что удивительным для секулярного либерала образом религия для мусульманина важнее жизни.
Мне кажется, что основная характеристика идеологии — это ее отчужденность от человека. Человеческое всегда будет выпирать из мусульманина, либерала или националиста. В ходе бесконечных разговоров с этим моим товарищем в Махачкале мы выяснили, что и в моей, и в его деятельности, общий знаменатель — это человеческое счастье, только мы различаемся в, скажем так, методологии.
Поступив в Европейский университет в Санкт-Петербурге, в магистратуру, я все-таки решил остаться в Москве — в Шанинке (МВШСЭН). Шанинка ставит очень высокую теоретическую планку, которая затем служит ориентиром и маяком в работе. Шанинка, кроме того, позволила мне научиться смотреть на мир не в рамках заданности, а в рамках вариативности и убедиться, что взгляд на мир — это функция от схемы, через которую ты на него смотришь, и то ли схема руководит тобой, то ли ты — выбираешь схему.
При этом там довольно мало занимались социологией, которая мне казалась важной, нужной и правильной. Было много работы с классикой, были попытки вести бесконечные танцы вокруг современных теорий. Но попыток сопрячь эти теории с окружающей действительности — и не для того, чтобы что-то проиллюстрировать, а для того, чтобы показать, как на самом деле устроен мир — в какой-то его части — не предпринималось.
Одновременно там были коммерческие эмпирические проекты, в которые я довольно быстро вписался. Так зарабатывались деньги, и нормальной социологической работой там не пахло. Поля делались абы как, а больше всего удивляла свобода интерпретации полученных данных, которая, казалось, была абсолютной. Это было явно не то, на что стоило тратить время, и я ушел.

© Олег Бородин
Я считаю, что для первых этапов научной траектории совершенно губительно длительное пребывание в рамках одной институции. В результате этого молодые ученые начинают производить все то же, что производили их учителя, но хуже. Откуда возьмется, что-то что сделает тебя не-клоном? Это возможно только за счет иного опыта — текстового, исследовательского, просто опыта жизни в другой культуре.
Моя выпускная работа была посвящена объяснению террористического акта на материале исламского терроризма в Европе. Параллельно я искал учебную программу по «terrorism studies». Например, такая программа была в Университете Сент-Эндрюс в Шотландии. Но я оказался в Израиле. Как так вышло?
«Как-то я устал торговать в лавке и сорвался в Израиль: приехал автостопом в Иерусалим, влюбился там в девушку, она ответила мне взаимностью, и мы начали встречаться».
Параллельно учебе и работе в Шанинке я учил арабский язык и в какой-то момент поехал в Египет его практиковать. Купил билет в Хургаду и, не прошло и часа после посадки, как я уже работал в сувенирной лавке продавцом. Продавал русским туристам галабеи, духи и статуэтки Рамзеса. Спал же я в той же лавке, и каждое утро меня будил очень приятный молодой человек, мы вместе шли завтракать таким отвратительным варевом из гороха, которое называется фуль. И каждое утро за завтраком этот молодой человек рассказывал мне, что он хочет взять автомат и идти воевать в Шушан — Чечню, потому что там джихад.
Интересно, что тогда нормально исследовать эти сюжеты в поле я не умел. Книжки про джихад были отдельно, а полевые исследования были отдельно. Не мог я это поддеть и теоретически. Поэтому я накапливал такие разговоры, одновременно придумывая довольно бессмысленную статью про фреймы продажи в египетской лавке.
Как-то я устал торговать в лавке и сорвался в Израиль: приехал автостопом в Иерусалим, влюбился там в девушку, она ответила мне взаимностью, и мы начали встречаться. Затем — расстались. Но ровно в тот день, когда мы это сделали — а дело было в Израиле — я нашел там себе учебную программу по контртерроризму, на которую я и уехал.
Благодаря Израилю у меня есть миграционный опыт, который позволяет лучше понимать интеграционные траектории мигрантов в Москве. Согласно теории сегментной ассимиляции, есть три основных кластера, в которые «отсортировываются» мигранты — средний класс, полиэтничная городская беднота или свое национальное сообщество.
У меня был выбор жить в городе Герцлии, в многонациональной студенческой тусовке с доминированием американцев, или в Тель-Авиве. Я решил, что жить в студенческой тусовке — это не жить в стране и поселился Тель-Авиве, в южной его части, где вместе со мной жили эритрейцы, суданцы, филиппинцы, арабы и сравнительно немного израильтян. Дальше я прекрасно помню, как я постепенно отсортировался частью в русскоязычное сообщество центральной части страны, частично — в ивритоязычную тусовую молодежь, которая особо ничего не делала за исключением джойнтов на берегу моря. С однокурсниками я тоже тусовался, но не очень много. А жил я с русскими, израильтянами и, почему-то, канадцами. Было много разговоров на разных языках, но было и одиночество, и оторванность, что помогало много читать и много думать.
Мне надо было выбрать — остаться Израиле или вернуться в Россию. Чтобы заниматься в Израиле всем тем, чем мне хотелось бы, мне нужно было бы еще долго обзаводиться разными типами капитала, по Бурдье, так что я вернулся в Россию. Друг встретил меня в аэропорту, мы поехали в «Билингву», когда она еще была, потом к еще одному нашему другу домой в Строгино. Утром мы вышли погулять, и — на бульварчике посреди Таллинской улицы — я вдруг увидел этнические группы и границы между ними. И я понял, что самое интересное, нужное и правильное, что можно делать в современной Москве — это изучать, ликвидировать и видоизменять это пограничье, которое наполнено подозрением и взаимными претензиями.
Надо было понять, как и с кем. Я написал петербургскому профессору Даниилу Александрову о том, что хочу заниматься исследованием миграции. Он пригласил меня в Петербург, я приехал, и дальше в течение двух лет была серьезная работа в разных его социологических проектах. Это была отличная «учебка» по части того, как делается хорошая социальная наука во всем разнообразии методов, которые позволяют тебе производить факты, а не то, что тебе привиделось на основании 20 интервью или краткой поездки куда-нибудь.
Александрова я считаю своим учителем в социологии. Довольно сложные методы, которые постоянно осваивали он и его сотрудники, были скомбинированы с важными проблемами, а также научной честностью и тщательностью. У Даниила Александровича есть замечательное выражение «Надо мучиться». Это и о непрекращающейся учебе, и о хорошем исследовании, качество которого — это функция от таких вот мучений на каждом его этапе.

© Олег Бородин
Как-то я поехал на конференцию в Алматы, а потом перешел границу и поехал автостопом по Киргизии. И путешествие заключалось в том, что я разговаривал с людьми, читал тексты по исследованию этнических границ и переписывался с Александровым. Я рассказывал про поле, он слал тексты, которые параллельно находил, и в этом совместном производстве и постоянном уточнении мира было что-то кастанедовское. Кстати, такую форму работы — один исследователь в поле, другой — в библиотеке, и между ними постоянный контакт, я с тех пор практикую, и последняя статья про Дагестан была написана именно таким образом.
Во время работы у Александрова я жил между Москвой и Петербургом и делал проект о том, как видят будущее своих детей мамы-мигрантки в Подмосковье. Тогда это были армянские и азербайджанские мамы, сейчас наряду с ними — появляются среднеазиатские мамы. Я делал фокус-группы с мигрантскими детьми в школах. Все это было в рамках большой повестки дня Александрова, посвященной детям-мигрантам в школах.
Кстати, исследования показали, что дискриминации в школах практически нет. (Дети, конечно, злые люди, но, если речь идет о буллинге как таковом, в топку там будет бросаться все — и физические несовершенства, и достаток, и национальные признаки). Как бы контринтуитивно это не звучало — это так. Здесь как раз статистические методы очень хорошо помогают, если мозг в плену стереотипа.
«Особый паттерн — это ночные дискотеки в киргизских кафе. Туда довозят на специальных маршрутках от станций метро. Привозят в ночь, а увозят уже утром».
Затем я окончательно вернулся в Москву, через некоторое время познакомился с Ириной Стародубровской, которая проводила исследования в Дагестане. Третий год вдобавок к моим исследованиям миграции в Москве, я вхожу в ее команду по исследованиям Северного Кавказа и Дагестана, в частности. У нее совсем другой стиль работы. Она значительную часть года в полях и делает описание тех или иных проблем с привлечением теоретического языка, но прежде всего на основании здравого смысла, помноженного на время, проведенное в регионе. Это тоже хорошая, честная и полезная наука, которую я в ходе совместной работы пытаюсь методологически усложнить и разнообразить.
Параллельно я стал работать вместе с Анной Рочевой, моей с тех пор ближайшей коллегой, которая также изучала миграцию. Мы встретились, у нас тогда не было ничего, кроме намерения, мы даже друг друга не очень-то хорошо понимали. А потом, когда РАНХиГС расширялся, поскольку там не было исследований миграции, мы сделали Центр и исследований миграции. Так произошла институциализация, и мы стали делать наши исследования уже в рамках Центра.
Первым делом мы начали исследовать сообщества мигрантов в этнических кафе. На этом материале получилось создать несколько хороших описаний того, как устроена мигрантская повседневность в Москве на основании хорошей особым образом сформированной эмпирической базы. Наша группа классифицировала этнические кафе и сообщества в них, изучала, как они складываются, как функционируют, какие смыслы там производятся.
В мигрантоведении есть такое понятие как «транснационализм» — это когда люди живут как бы над границами. У исследовательницы Пегги Ливитт есть книга «The Transnational Villagers» о Мирафлорес, деревне в Доминиканской республике, откуда тянется «небесный мост» в маленький район в Бостоне. Так в Бостоне есть свой маленький Мирафлорес, а в Мирафлорес — свой маленький Бостон. В Бостоне смотрели те же мыльные оперы, что и в Мирафлорес, а в Мирафлорес ходили в футболках с американскими надписями, значение которых понимали даже те, кто не был прямо включен в миграцию.

© Олег Бородин
Некоторые этнические кафе в Москве — это общественные пространства таких транснациональных сообществ, которые одной ногой там, а другой — здесь. Люди, входящие в такое сообщество, во многом продолжают жить в том месте, откуда приехали, например, обсуждать новости оттуда.
А некоторые — устроены совсем по-другому. Например, особый паттерн — это ночные дискотеки в киргизских кафе. Туда довозят на специальных маршрутках от станций метро. Привозят в ночь, а увозят уже утром. Собственно, это был инсайт для второго нашего проекта — про киргизских мигрантов в Москве, который на данный момент, пожалуй, является нашим наиболее успешным проектом и визитной карточкой. Мы сделали и опрос, и этнографию, и много длинных биографических интервью. Это помогло понять, как устроена интеграция мигрантов в Москве.
В рамках же исследования сообществ в кафе сам я делал описание исламского кафе рядом с мечетью. Там однажды был потрясающий разговор. Респонденты мне говорят, что я должен поверить в Аллаха и пророка Мухаммеда, потому что это не противоречит современной науке, а я отвечаю, что все эти прозелитические истории слышал уже миллион тысяч раз — и про то, что Жак-Ив Кусто увидел, как в проливе Гибралтар два моря не смешиваются, мусульманин из его команды рассказал, что это написано в Коране, и Жак-Ив Кусто принял ислам, и про то, что Армстронг высадился на Луне, услышал там музыку, а после в Саудовской Аравии услышал азан и понял, что это та самая музыка, которая играла на луне, и он тоже принял ислам.
И вдруг в ответ на это хозяин кафе говорит: «Армстронг не был на Луне — это все американцы придумали». В данном случае, в этой маленькой столовой при мечети сталкиваются два мощных и влиятельных дискурса — исламский прозелитический и общемировой антиамериканистский.
По науке мы занимаемся тем, что происходит на пересечении этничности и миграционного опыта. Так получилось, что в первую очередь нас интересуют потоки международной иноэтничной миграции из стран Средней Азии и Закавказья.
Этническое пограничье в городе — это система кривых зеркал восприятия разных людей разными людьми на основании своего опыта и предсуждений. Исследование интеграции мигрантов в городе — это исследование взаимных считываний и тех структур, которые в результате складываются. Мы планируем через 2-3 года исследовать интеграцию в преломлении нейронауки. Будем надевать на людей шлемы, которые позволяют отследить, что у них зажигается в мозгу при реакции, например, на таджика, проходящего мимо в оранжевой безрукавке или в хипстерском наряде.
Этот сложный экспериментальный план нам нужен, чтобы понять, кто как считывается, что зависит от характеристик самого считывающего, и как в результате этих считываний выстраивается жизненная траектория человека.
В исследованиях интеграции мигрантов мы отталкиваемся от тезиса, что интеграция не висит в воздухе, а происходит там, где люди работают и живут. Неудивительно, что в какой-то момент мы начали делать этнографию московских районов — сняли комнату в Капотне и прожили там часть лета. Мы разговаривали с людьми, наблюдали, что происходит в районе днем, а что ночью, что происходит в магазинах, на спортивных площадках, на школьных дворах. Завели там знакомых, с которыми регулярно общаемся, и когда нам сейчас нужно будет понять, как кризис повлиял на миграцию, мы разговариваем с теми же капотненскими информантами.
Мы делали это исследование и нам становилось понятно, что нужно что-то менять. И вот последний год мы конструируем, пробуем и описываем опыт внедрения так называемых интеграционных практик. Мы дружим мигрантов и немигрантов, показываем одних другим. В результате чего снижаются взаимные стереотипы и складываются внутрирайонные связи. Мы организовывали общерайонный проект «Лица района», где дети мигрантов и немигрантов снимали ролики в командах, а потом все это показывалось в библиотеке жителям района. Герой ролика, занявшего первое место, армянин-сапожник, говорил: «Нам всем нужен любовь. Любовь — это не когда мальчик и девочка, а любовь — это когда уважение». Это было очень волнительно, так что одна жительница даже отправилась в его мастерскую читать ему свои стихи.

© Олег Бородин
Еще мы делали кулинарные мастер-классы для молодых мам: мигранток и немигранток. Раньше районы работали как инструмент интеграции всех тех, кто туда приезжал или переезжал, а сейчас нет. Это в чистом виде социальный капитал, потому что все, что важно и нужно для тебя и ребеночка, можно быстренько узнать через других мам. Но мигрантки в такие сообщества плохо кооптируются, в результате, молодые мамы-мигрантки — в принципе, самые неинтегрированные группы. Наша задача — в том числе и в том, чтобы эти группы определять и пытаться с ними работать.
Представление о том, что люди, которые находятся по ту сторону этнической границы, нормальные, невероятно важно. Теория контакта, которую придумал в 1954 году Гордон Оллпорт, говорит о том, что есть оптимальные условия контакта. Два важнейших — это совместная деятельность и институциональный контекст. По результатам исследования, которое мы когда-то проводили в Оше (Южный Кыргызстан), где в 2010 году киргизы резали узбеков и наоборот, мы увидели, что этнически смешанные районы пострадали меньше. Дело в том, что киргизы защищали «своих» узбеков, а узбеки защищали «своих» киргизов. И если всмотреться в микросоциологию этих конфликтов, то выяснится, что соседские связи мешают эскалации конфликта.
А поскольку — следующий шаг — интеграция мигрантов невозможна без интеграции сообществ, мы сейчас запустили Школу организаторов сообществ, которая превратилась в полноценную лабораторию. Там есть проекты, связанные с организацией районного информационного центра, есть — по активизации и интеграции районного сообщества собаководов, есть — по использованию облагороженной, но еще не обжитой, территории на Яузе. Еще есть проекты по одновременному совместному освоению пространства мигрантами и немигрантами, которые выросли из проекта по экскурсиям по Москве.
«Герой ролика, занявшего первое место, армянин-сапожник, говорил: «Нам всем нужен любовь. Любовь — это не когда мальчик и девочка, а любовь — это когда уважение».
У окраинных территорий Москвы, которые зачастую являются селами или городами, в какой-то момент включенными в Москву, есть свои символические ресурсы для этого. В Капотне есть церковь XIII века, с которой связывают себя некоторые старые жители Капотни и говорят, что они здесь с 1243 года, когда была построена церковь. А в Тропаревском парке, кстати, есть вятические курганы, то есть это территория, на которой жили вятичи, до того, как после XIV века исчезли в качестве политического образования. И это тоже можно использовать!
На основании накопленного знания мы занимаемся тем, что создаем механизмы изменения ситуации в районах — на уровне сообщества, в целом, и пограничья между мигрантами и немигрантами. Это в первую очередь относится к первому поколению. Потому что второе в настоящих условиях, скорее всего, будет неплохо интегрировано благодаря школам, очень смешанным во всех отношениях. История с запретом на учебу детям, у родителей которых нет регистрации или разрешения на работу — самая большая глупость, которую только могли придумать законодатели.
В ходе такой политики, мы получим неинтегрированное второе поколение, что чревато большими проблемами. А в настоящей демографической ситуации неизбежно требуется мигрантское население. Мы не выбираем между миграцией и не-миграцией, интеграцией и не-интеграцией, мы выбираем только между миграцией из пока еще культурно близкой Средней Азии и из Африки. Наконец, использовать человеческий потенциал, ресурсы, таланты тех людей, которые могут быть талантливыми инженерами или врачами, а иначе окажутся на самом дне, это очень здравый ход для развитого общества.
В мире есть много сложностей, неустроенностей, несоответствий, по отношению к которым нужно делать хорошие, честные и дотошные исследования и описания. Мне кажется, это то, чем следует заниматься, если идешь в общественную науку. Иначе — зачем.
Книги, которые рекомендует Евгений:
|