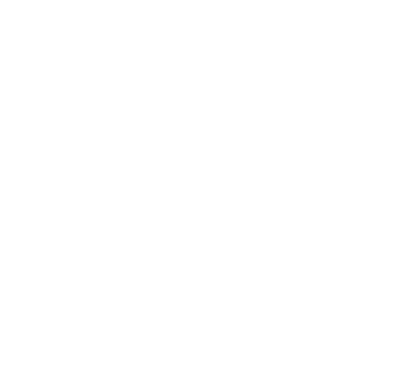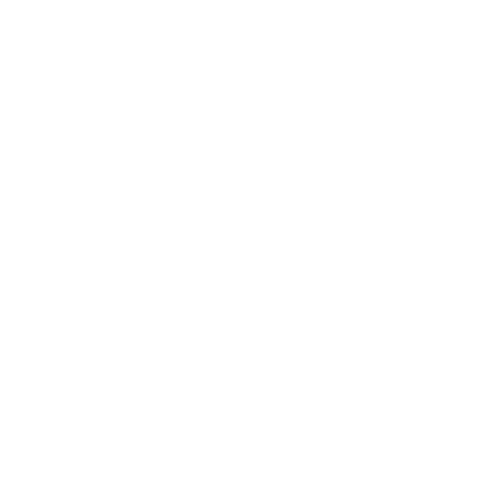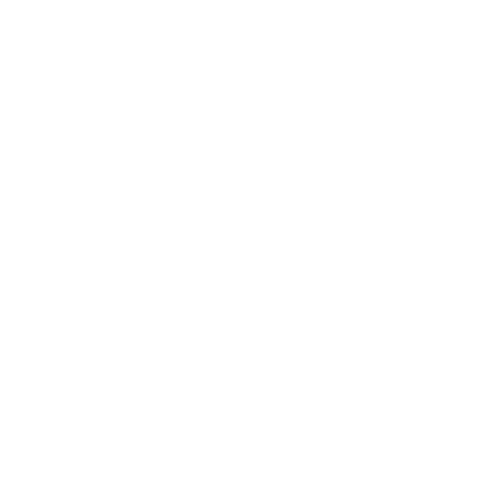| Articles |
Материал ОТРСмотреть видеоКонстантин Точилин: Добрый день, это программа "Де-факто". Сегодня наш гость – Евгений Варшавер, директор Центра исследований миграции и этничности. Российское общество живёт стереотипами. Социологи фиксируют рост недоверия как среди местного, так и среди пришлого населения. Откуда берётся бытовой расизм, и насколько это серьёзная проблема для современного российского обществ? Об этом сегодня и попытаемся поговорить. Но, прежде всего, давайте определимся с терминами: что такое бытовой расизм и откуда он берётся? Евгений Варшавер: В этом смысле с терминами действительно очень большая путаница. Можно обращаться к разным научным традициям, каждая из которых будет предлагать свой словарь и свой лексикон. В тот момент, когда обратимся к психологии, выяснится, что есть такое слово "предубеждение" и слово "стереотип". Стереотип в этом смысле – некоторое компактное представление о большой совокупности, притом, что есть непонимание, что эта совокупность разная сама по себе. Про стереотипы писали, начиная годов с 1930-х, наверное. И в какой-то момент стало понятно, что этнический стереотип и представление о том, что да, действительно, люди бывают разные, и под некоторым общим лейблом находятся очень разные сюжеты, очень разные люди, и то, что это надо изучать, и то, что хорошее общество – это общество, в котором стереотипы снижены, вот это в повестке дня появилось в годах 1950-х. И наш исследовательский центр и наша исследовательская команда работает в такой теории контакта, который именно что со стереотипами работает. К.Т.: Смотрите, стереотипы на самых разных периодах истории человечества были разные. Если мы возьмём, например, средневековую Францию, то мы увидим, что гонения на итальянцев и евреев были огромны, но они, если мы разберёмся в сути, были связаны с тем, что правящая элита была связана займами у еврейских и у итальянских банков. Если мы возьмём Америку после отмены рабства, мы столкнёмся с совершенно другой проблемой: мы столкнёмся с тем, что вдруг табуретка потребовала тех же прав, что и человек, который сидит на этой табуретке. И потребовалось несколько смен поколений, чтобы эта проблема ушла и, правда, перешла уже в другую стадию, потому что, как мы сейчас видим по новостям из Америки, негр прав просто в силу того, что он прав. Е.В.: Мне нравится широта нашей беседы. К.Т.: Англия и Франция, давайте пойдём ещё шире. Комплексы вины перед бывшими колониями. Стремление загладить ошибки прошлого с одной стороны, и с другой стороны – целый комплекс проблем, связанных с пакистанскими, индийскими и алжирскими диаспорами. У нас откуда это берётся после ста лет практически пролетарского интернационализма? Е.В.: Действительно, ситуации очень разные. Контексты сильно отличаются. Но всякий раз есть одна константа: она связана с границей в представлениях человека, а на самом деле в мозгу, между своим и чужим. Граница эволюционная. Она нам в какой-то момент была очень нужна. Потому что в тот момент, когда человечество было ещё в своей колыбели, надо было очень быстро различать, кто свой, кто чужой. Более того, надо было различать просто на уровне "вот есть живое существо, оно ко мне приближается". К.Т.: Его съесть или с ним подружиться. Е.В.: Или убежать. И вот эта граница между своим и чужим и возможность и необходимость мгновенно различать, кто свой, кто чужой, она инкорпорирована в человеческий мозг. Вот сейчас мы, я думаю, не в этом году, но где-то годика через два мы дойдём до такого момента, когда мы сможем провести когнитивные исследования интеграции мигрантов. Мы будем сажать… К.Т.: Эк вы завернули-то. А человеческим голосом если, это что значит? Е.В.: Человеческим голосом – мы будем брать людей, сажать их в специальные будки на улице и смотреть, каким образом они реагируют на проходящих мимо людей, в какой степени та зона в мозге, которая отвечает за своего, у них зажигается, или зона в мозге, которая отвечает за чужого. Когнитивисты (я сам не когнитивист, я социолог), умные когнитивисты говорят, что там всё не совсем понятно, что там именно зажигается, но что-то зажигается, и такие эксперименты проводить можно. Так вот, идёт мигрант из Таджикистана в оранжевой безрукавке. В какой степени он квалифицируется, как свой и как чужой? Вероятно, как чужой. А если он уже одет, как хипстер? К.Т.: Нет. А если он в оранжевой безрукавке идёт как дорожный рабочий, то он уже как свой. Е.В.: Эта граница, насколько я понимаю, в общем, более-менее бинарна. То есть, есть с одной стороны, есть с другой стороны. И вот, например, почему я сказал про таджика-хипстера. С одной стороны, мы понимаем, что хипстеры живут в Москве, они безопасны. К.Т.: Я бы только обратил ваше внимание на то, что не вся наша аудитория, в том числе и я, кстати, не постесняюсь, не очень понимают, что такое хипстер. Е.В.: Это обычный горожанин. Человек, одетый в обычную одежду, не отличающуюся от других горожан, идущих по городу, так же как мы. И в какой степени человек, который выглядит иначе, будет квалифицироваться как свой мозгу. В этом смысле мой пример довольно характерен. Потому что я не думаю, что я выгляжу, как среднестатистический русский человек. У меня довольно сложные корни. Но полиция, которая занимается ежедневной сортировкой людей и квалификации людей по принципу "свой-чужой", а чужой для них – это человек (прагматический из этого выхода), с которого можно получить, например, деньги. Меня никогда не останавливали. Ровно потому, что я (последнее научное слово) габитус, то есть те структуры, которые я впитал с рождения, я москвич. К.Т.: Они говорят о высшем образовании, московской прописке и некотором доходе. Поэтому полиция, наверное, думает, что лучше мы… Е.В.: И это считается по некоторым косвенным признакам: по тому, как я одет, по тому, как я иду. И дальше в мозгу загорается определённая лампочка. И в этом смысле продолжая отвечать на ваш вопрос, в каждом обществе есть свои структуры. В каждом обществе есть свои представления, да, в языке, в прессе, в книгах, в повседневных беседах, кто свой, кто чужой. И дальше вот эта граница в мозгу как-то сцепляется с представлениями, которые находятся в языке и повседневности, и дальше машинка едет. Например, мой любимый пример. Вы упомянули Америку. Там есть такой большой исследований, называется whiteness studies, по-русски - "исследование белизны". В чём фишка? Когда-то до того, как Соединённые Штаты Америки стали принимать большие волны миграции из Европы, а затем и не только из Европы, по большому счёту США было расовым обществом: там были белые и чёрные. Затем туда начинают прибывать люди – ирландцы, евреи, итальянцы, которых сначала пытались квалифицировать в категориях "белый и чёрный". Вот они приезжают. К.Т.: Куда их девать? Е.В.: Потому что квалификаторы, потому что люди, которые имели символическую власть в обществе, были белыми. Им не хотелось конкуренции. Поэтому те, кто приезжал, сразу же квалифицировали как чёрных. И блестящая совершенно история про то, как в дельте Миссисипи целая община китайцев, сначала квалифицированная как чёрные, за 100 лет там пребывания разными способами стала белыми. К.Т.: Это всё было до аболиционизма? Е.В.: Что вы имеете в виду? К.Т.: Аболиционизм – это отмена рабства. Е.В.: Это после. Исследование, которое это показало, было в 1960-х годах. К.Т.: Давайте переедем сюда чуть поближе, потому что у нас ситуация и сложнее, и проще одновременно, потому что мы, строго говоря, никогда не были колониальной державой. Е.В.: Были. К.Т.: Ну, не были. Мы не были такой колониальной державой... Такой-то царь в такой-то год вверял России свой народ. Е.В.: Смотрите, были континентальные империи. И в этом смысле, безусловно, те потоки миграции, которые у нас есть, и Советский Союз в этом смысле не сильно отличался. Это постимперский… К.Т.: У нас не было сипайских войн и всего остального. У нас эта интеграция происходила достаточно мирно. Я к тому, что у нас, по идее, не должно быть комплекса перед порабощёнными народами, который есть в Англии, который есть во Франции. Однако у нас проблемы другого рода: когда мы видим объявление о приёме на работу, об аренде жилья, извините, о знакомствах, мы очень часто замечаем приписку "строго для славян". И, наверное, в сущности это и есть бытовой расизм, особенно если учесть, что Россия – это не только славянская страна. Е.В.: Видим. В этом смысле работает это всё довольно странно, и на нескольких уровнях. С одной стороны, есть вот этот категориальный уровень. У меня есть ощущение, что советский проект очень необычный в смысле того, что Россия не прошла через национализм. К.Т.: Она скорее прошла через интернационализм, правда, такой вывернутый немножко наизнанку, но тем не менее. Е.В.: Я что хочу сказать? Что национализм – это а) очень простые инструменты б) очень простой в каком-то смысле опиум для народа. И, в-третьих, национализм – это такое подростковое состояние индустриального общества, когда люди приезжают в город, общество штормит, дальше с одной стороны требуется идеология, с другой стороны требуется мобилизация. Каким образом легче всего мобилизовать людей? По принципу принадлежности к семье. Там очень простая перемычка. Я в какой-то момент писал работу про то, как устроены плакаты Первой мировой, Второй мировой войны. К.Т.: Они отличаются, конечно. Е.В.: Нет, они абсолютно одинаковы по вот какому критерию. Символика матери и дома абсолютно универсальна по одной простой причине... К.Т.: Отечественная война. Е.В.: Первая мировая не являлась отечественной войной. К.Т.: Отечественные войны объявляют уже, собственно, по факту окончания. Е.В.: Что такое отечественная? Тут сразу же уши торчат от этой метафорики дома, семьи. Государству необходимо объяснить нам, что это не против правящих классов воюют, что в тот момент, когда нападают на Мурманск, людям с Петропавловска-Камчатского надо принимать в этом участие. И лучший образ, через который это транслируется – это как раз образ дома. Поэтому это очень простой инструмент. Сказал человеку, что эта страна – это его дом, он в это поверил, пошёл воевать. Да, безусловно, советский проект имел и такой аспект. Но дальше всегда было понятно, что есть недоигранный сюжет, связанный с самым простым явлением, которое можно сассоциировать с домом – это что-то типа крови, что-то типа представления о том, что у тебя есть большая семья и твоя семья, потому что каждый интернационализм был очень соблазнительным проектом, и в него верили, и он был в каком-то смысле эйфористичен и прекрасен, но было понятно, что всё-таки люди разные. К.Т.: Люди разные. Но был же "Ташкент – город хлебный", и значительная часть центральной России была в эвакуации в Ташкенте. Потом они вернулись, а кто-то остался. Всё равно же смешение это происходило. Е.В.: Происходило, безусловно. К.Т.: Притом, что были и депортации чеченцев, крымских татар и так далее. Е.В.: Было действительно много всего разного. Более того, если сейчас ездить по бывшим республикам Советского Союза или по национальным республикам и регионам России, вот это воспоминание о советском прошлом, которое для них, прежде всего, интернационалистическое прошлое, на фоне того, как Владимир Вольфович предлагает оградить Кавказ колючей проволокой, а ровно в тот момент был в Дагестане, люди были очень недовольны… Да, безусловно, это ценные воспоминания, но, с другой стороны, что я хочу сказать? Что сюжет про такой обычный понятный национализм, через который прошли большинство стран Европы, в России не доигран. К.Т.: И он ещё должен быть доигран. Е.В.: Эти сантименты недоэксплуатированы. Поэтому всегда появляются люди, которые будут это эксплуатировать, а на низовом уровне это тоже происходит, но, с другой стороны – и слава Богу. Традиция интернационализма также впитана. Наша исследовательская группа работает в районах города, для того чтобы понять, как там складываются отношения между мигрантами и немигрантами. К.Т.: И как? Е.В.: Знаете, ответ – "всегда по-разному", а дальше учёные входят в детали. Первое – интеграция школьников в школах проходит блестяще. В отличие от европейских стран и Соединённых Штатов Америки, где в какой-то момент сложились, не будем употреблять сильно нагруженного слова "гетто", но этнические районы, или мигрантские районы. У нас такие, как минимум, в Москве не складываются. К.Т.: Не знаю. У меня другая информация. У меня информация просто от московских учителей, что есть школы, которые состоят из мигрантов. Е.В.: У учителей большие глаза. Их можно понять. Потому что действительно в тот момент, когда у тебя в классе даже 20% людей, для которых русский язык не родной, естественно, преподавать сложно. К.Т.: Смотрите, очевидно, что приписки "только для славян" – они на ровном месте не возникают, потому что вы говорите – нет национальных классов, учителя говорят – есть. Бог с ним. Но есть так называемые резиновые квартиры, есть так называемые кавказские свадьбы, есть так называемые кавказские мальчики на Ламборгини и Мазератти, которые тоже непонятно с какого перепугу должны нравиться жителям российских городов. И вот ведь в чём проблема: одно дело – мигранты, которые не граждане, а у нас же есть ведь ещё проблема между гражданами одной страны, которые никак не могут договориться друг с другом о правилах общежития. Е.В.: Сначала я испугался, когда вы начали соединять абсолютно разные явления… К.Т.: Это разные явления, да. Е.В.: В одну линию. После того как вы сделали хотя бы одно различение, давайте поговорим. Первое. Резиновые квартиры. Два понимания этого термина. Первое – это регистрации, которые делаются там, где люди не живут. Второе – это квартиры, в которых живут мигранты. Нужно понимать, как в основном мигранты приезжают и как они видят свою жизнь. Свою жизнь, во всяком случае, в тот момент, как они только включаются в миграцию, они видят в рамках отправляющего общества, в рамках тех иерархий, тех статусов, которые они там могут приобрести, воспользовавшись ресурсом миграции. Человек приезжает в Россию, зарабатывает деньги, приезжает туда, строит такой дом, который нам и не снился, с садиком, такой же дом для своих детей, чувствует себя очень хорошо и комфортно, потому выполняет ту программу, которое ему общество говорит выполнять. К.Т.: Но в наши ценностные показатели он каким-то образом не вписывается. Потому что нас его дом в Зеравшане совершенно не волнует. Е.В.: Это я реагирую на резиновые квартиры, на то, что мигранты живут в лишении. Это так. И это нормально. И в этом смысле я думаю, что проблема скученности такого рода (в этом смысле им тоже некомфортно) не стоит. Есть другая проблема, не связанная с национальностью, с этничностью. Она связана с тем, что большое количество сельского населения приезжает в город. Сельские нормы устроены иначе, чем городские. Сельские нормы – они внешние. Всегда есть какой-то внешний контроль, всегда есть субъект, который может дать хулигану по голове. В городе через некоторое количество времени, через некоторое количество неудач, потому что в тот момент, когда нет внешнего контроля, нет не только внешнего контроля за хулиганством, нет ещё внешнего контроля за тем, как тебе строить жизнь. И вот в тот момент, когда ты здесь обломился, здесь обломился, ты начинаешь понимать, что тебе надо выстраивать систему внутреннего контроля за собой, который приведёт тебя к успеху. И первое поколение, ещё и молодое поколение сельских мигрантов вне зависимости от страны или региона происхождения – это всегда проблема для города. И в этом смысле российские столицы после войны, как все прекрасно знают, столкнулись с проблемой под названием "лимита". К.Т.: Лимитчики, да. Ничего, переварилось как-то. Е.В.: Переварилось. Примерно так же можно наблюдать за тем, как дети тех мигрантов, которые москвичам, наверное, тоже не очень нравились, из Армении, из Азербайджана, замечательно встраиваются и в институты российские, идут получать высшее образование, и нормативно оказываются вполне себе москвичами. К.Т.: То есть вы считаете, что в принципе вопрос во времени. Должно перевариться. Е.В.: Вопрос во времени. И вопрос в территориальных структурах. В том смысле, что, опять же, я приводил пример зарубежных стран, где сложились этнические районы. Слава Богу, этнические районы, как минимум в городе Москве, как я уже сказал, не складываются. Любой район, во-первых, имеет доминирующее городское население, не будем говорить, что оно русское, просто потому что Москва изначально город интернациональный, но, скажем так, городского в смысле нормы. Более того, нет ни одного района Москвы, где бы даже среди иноэтничных, иностранных мигрантов доминировали бы одна группа. В этом смысле районы Москвы – это такие миниплавильные котлы… К.Т.: В которых всё равно рано или поздно каким-то образом переварится. Е.В.: Есть проблемные группы. Это правда. К.Т.: Например. Е.В.: Проблемные в нескольких аспектах. Например… К.Т.: Давайте называть вещи своими именами. Е.В.: Женщины-эмигрантки. К.Т.: А в чём тут проблемная группа? Е.В.: Это люди, которые плохо знают русский язык, это люди, которые не чувствуют себя принятыми, это люди, которые не имеют понятных каналов интеграции. Вот район Капотня. Берём интервью на детских площадках и понимаем… Одна из моих основных научных тем – это этническая граница в городах. Как она складывается, как она поддерживается. Мы приходим на детскую площадку и видим этническую границу в чистом виде. Как это устроено? Местные мамаши, иноэтничные иностранные мигрантские мамаши, сидят порознь, дети играют в песочнице, бьют друг друга по голове лопаткой. Дальше мы разговариваем и с теми мамами, и с теми мамами. Выясняется, что русские мамы интерпретируют конфликт между детьми как межэтнический. Они считают, что мамы-мигрантки подсуживают людей, для того чтобы они били наших детей лопаткой по голове. В свою очередь, мамы считают, что иноэтничные мамы, которые плохо владеют русским языком, они не чувствуют себя в силах, в праве, в уверенности подойти и познакомиться, притом, что дальше, когда мы глубже изучаем районную жизнь, выясняем, что вот эти сообщества мам – это такие механизмы интеграции, например, мигрантов из других регионов. Приезжает мама, сразу знакомится с другими мамами, сразу узнаёт, где и что находится в районе, как можно использовать районные инфраструктуры и всё такое. Мигрантские мамы к этому не подключены. Знаете, что мы сделали? Мы провели серию кулинарных мастер-классов, в рамках которых мамы, женщины-мигрантки и женщины – не мигрантки, десять человек в местном кафе готовили разные блюда и взаимодействовали между собой. К.Т.: Полегчало? Е.В.: Все остались очень довольны. А мы же, учёные, люди очень хитрые: мы заняты тем, что замеряем эффект этой практики. У нас было пять камер, которые с разных ракурсов направлены на эту процедуру. И наша задача сейчас состоит в том, чтобы выяснить, в какой степени люди в течение этих мастер-классов от первого к четвёртому начали больше общаться между собой. Пока не померили. Но есть великий шанс, что это действительно так. К.Т.: У нас последний вопрос. Буквально одна минута осталась эфирного времени. Снова хотел бы уйти в историю и обратиться, например, к Римской империи. Ведь мы понимаем, что Италию сейчас населяют не потомки римлян, а мигранты, пришлые племена. Насколько для нас существует такая опасность, что через 100-200 лет здесь будут другие люди, другие порядки? Е.В.: Вы знаете, это вопрос того, кто такие мы. К.Т.: Вопрос. Е.В.: Вопрос какой угодно – философский, культурологический. У меня в этом смысле есть два тезиса. Первый тезис состоит в том, что всё меняется. И неизбежно через 200 лет, что бы мы ни делали, как бы мы ни пытались что-то сохранить, всё будет совершенно иначе. Более того – как, мы совершенно не представляем. А с другой стороны, есть основная ценность. Эта ценность состоит в том, чтобы люди жили в мире, не враждовали и максимально получали удовольствие и пользу от общения друг с другом. К.Т.: На этом давайте и закончим. Хотя, конечно, об этой проблеме можно говорить бесконечно. Я думаю, Евгений к нам ещё раз придёт. У нас в студии был Евгений Варшавер, директор Центра исследований миграции и этничности. И давайте помнить о том, что расизм – это максимум ненависти при минимуме причин. Это Де-факто. Увидимся.
| |